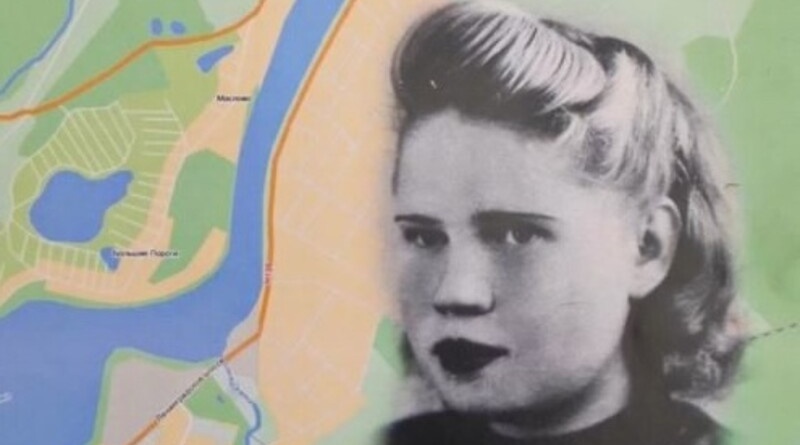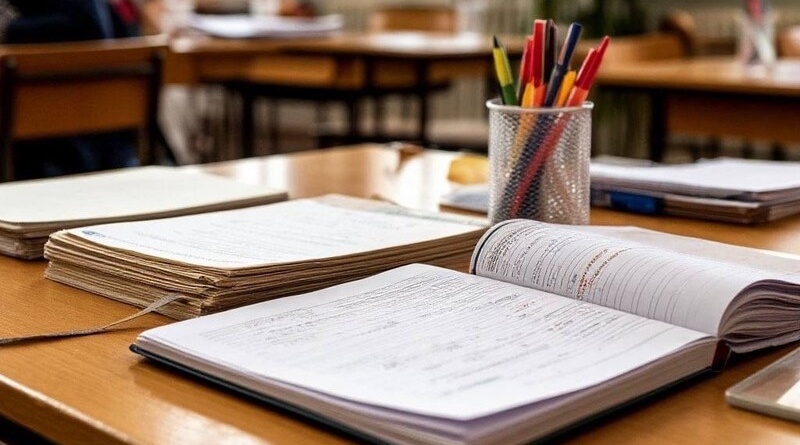Мы продолжаем публиковать воспоминания Анастасии Николаевны Жерновой (Никитиной), уроженки деревни Петрушино, нашей с вами землячки. Рукописи этого семейного архива некоторое время тому назад по счастливой случайности оказались в руках Юрия Ивановича Егорова, краеведа, который много лет изучает историю города Отрадное и его окрестностей. Рассказ Аси о своём довоенном детстве, о своей малой Родине, о тяжелейших днях войны Юрий Иванович любезно предоставил редакции газеты.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ПУТЬ С ПОДОРОЖНОЙ
НА ГРАНИ
Однажды пришли в деревню раньше положенных четырёх часов. Ночевать нас не поставят, так как ещё рано, а до другой деревни далеко. Мы очень устали. Остановились у стены какого-то сарая и вдруг видим: в соседнем доме открывается дверь, и девушка начинает подметать крылечко. Мы — туда, к девушке, попросили её принести в дом маленькую сестричку погреться, она не отказала. Так мы попали в тёплый дом с добрым хозяином. Это был отец этой девушки. Он нас не выгнал, но всё время молчал, и мы притихли — боялись, как бы нас не выдворили, так как ночевать ещё рано. Прошло немного времени, вернулась хозяйка и как начала кричать на дочку — зачем она впустила «побирух». Естественно, стала нас выгонять. Мария заплакала, а хозяйка кричит: «Не надо плакать, а надо было думать, когда рожала свой выродок!» Мы ей объясняем, что мы сёстры, а она не верит и кричит: «Вон из дома, вас никто не звал!» Мы в истерике. Тут хозяин не выдержал и вступился: «Не ори, не видишь, что ли, в какой они беде! А если у твоих детей случится такое?» Хозяйка всё равно пыталась нас вытолкнуть, но мужчина не дал. Наоборот, посадил Марию на скамейку и стал расспрашивать, кто мы, откуда и куда идём? Мария всё рассказала. И нас оставили на ночлег. Утром хозяин посоветовал нам идти в Оредеж — райцентр, в трёх километрах от этой деревни. Он сказал, что в Оредеже две комендатуры: немецкая и русская, и посоветовал обратиться в русскую. Немцы запрещали беженцам идти по большаку, но хозяин посоветовал рискнуть. Мы прошли, хотя нас видели местные рабочие, которые чистили дорогу от снега. Посёлок оказался заснеженный, без людей. На счастье, встретилась одна женщина, к которой мы обратились. Но с нами такое произошло, чего ни до, ни после этого случая больше не бывало.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
О чём мы спрашивали, женщина не могла понять, так как у нас у обеих одновременно началась истерика. Когда она поняла, что нам нужна русская комендатура, показала куда идти. В приёмной никого не было. Мы с Оленькой сели на красивый чёрный диван, а Мария пошла в кабинет. Долго она не выходила, а когда вышла, я увидела у неё в руках бумаги: направление в медпункт и записку с талонами в столовую. Она ушла, а мы так и остались на диване ждать её. Первый раз за всё время ей была сделана перевязка, а это всё же помощь. Хотя пальцы ног нужно было ампутировать, но делать операцию некому, врачей не было. Потом мы пошли в столовую. Очень скудно нас покормили, но и тому были благодарны и рады. С запиской от коменданта пошли искать приют. Две молодые женщины приняли нас, зарегистрировали в журнале и указали наше место на нарах, застеленных соломой. После всех мытарств мы нашли наконец-то пристанище. Добрые люди подбирали детей на дорогах, на мосту, под мостом и приносили в приют. Детей в приюте было примерно 20-25 человек разных возрастов, но маленьких — от 2 до 5 лет; мы с Марией самые старшие. У Марии был даже паспорт, ей исполнилось 18 лет. Дистрофия нас так «украсила», что невозможно было с виду определить ни пол, ни возраст Марии, она выглядела худым стриженым подростком. Наши силёнки понемногу начали прибавляться, и мы вдвоём с Марией уже могли поднять Олю, которая была кожей обтянутым скелетиком. Более недели прожили мы в этом приюте. Руководство организовало группу детей, посадили нас на две подводы, отправили в путь с подорожной, в которой указывалось, где менять лошадей. Останавливались в деревнях на ночлег. К нам приходили местные жители, приносили еду, за младшими ухаживали: во что-нибудь переоденут, причешут, покормят и, конечно, все плакали, жалели — целых две подводы сирот несчастных. В какой-то деревне к нам на дровни положили умирающего мужчину. Он почти не говорил, а стонал, иногда спрашивал, скоро ли детский дом? Кто он, откуда? О нём ничего не знали. И так на дровнях с переменными лошадьми и извозчиками нас привезли в деревню в трёх километрах от Порхова. В тот день в деревне был престольный праздник. Даже на улице пахло пирогами. На ночлег к нам пришли деревенские жители, принесли еду и оплакивали нас, приходя в ужас при виде таких дистрофиков. Мы долгое время не мылись, не переодевались, но самое страшное — обовшивились. В деревне была часовня, в неё положили тех, кто умер в наших подводах. Умер и этот мужчина, что стонал всю дорогу.
В «ПРАЗДНИЧНОЙ» ДЕРЕВНЕ
Деревенские жители обещали всех мертвецов захоронить. В доме, куда нас троих поселил староста, было праздничное красивое убранство, зажжённые лампады, запах пирогов — всё напоминало нашу довоенную жизнь. Конечно же, нас по-праздничному очень хорошо накормили. Местность была оккупирована, но немцев в деревне не было и от фронта было уже далеко. Итак, мы в тепле, сытости и тишина кругом, как будто и нет войны. Едим, рассказываем хозяевам, из какого «пекла» мы пришли. Вдруг стук в дверь. Заходит мужчина и просит милостыню. А это дядя Лёша, папин двоюродный брат! Как мы обрадовались! Встретили родного человека! Семья его состояла из шести человек — все пока живы и вместе! (В дальнейшем их старшая дочь погибла от осколка снаряда при отступлении немцев в 1944 году). На другой день утром к нам пришла дядина жена — тётя Таня и проводила нас из «праздничной» деревни. Нас опять собирали в путь, теперь уже в Порхов, и привезли всех в русскую комендатуру на решение власти. Надо сказать, что обошлись с нами милосердно: в столовой хорошо накормили, выдали по овчинному полушубку и по валенкам. Мы распрощались с тётей Таней. Все уже поместились в одну подводу, и повезли нас дальше — за 30 километров в посёлок Славковичи.
СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ В ПРИЮТЕ
Прибыли на место поздно вечером, ночевать остановились в комендатуре. Спать легли на полу, вповалку, все вместе. Вши, предчувствовавшие скорую свою гибель, заснуть не дали ни на минуту. Утром всей группой нас отправили в дезкамеру. Одежду сдали на санобработку. После бани все оделись в свою одежду, но без вшей. В столовой пообедали и направились в медпункт спать. У Марии очень плохо было с ногами. Она мучилась уже больше месяца. Еле ходила и то только на пятках. Оля так и не ходила совсем, и у неё был расстроен кишечник, каждый день по нескольку раз понос. Но после бани и санобработки мы спали крепко и долго. Санитарка дежурила и беспокоилась: живы ли? На другой день тех, кто покрепче здоровьем, в том числе и меня, отправили в приют, недалеко от медпункта. А обеих моих сестёр оставили в медпункте — там были две небольшие палаты для больных. В приюте, наверное, раньше была библиотека, на чердаке валялось множество книг именно художественной литературы — глаза разбегались! Одну я присвоила — «Гулливер в стране лилипутов»; долго с ней не расставалась, сама читала и другим давала читать, пока её тоже кто-то не присвоил. В больницу я ходила каждый день навещать своих сестричек. Организовала эту больничку тоже беженка, врач из-под Старой Рузы — Елизавета Николаевна Киреева. Вечная память этой доброй спасительнице! В дальнейшем она людей спасала от угона в Германию — давала «липовые» медицинские справки о болезнях и непригодности работать. Немцы об этом узнали и собирались её арестовать и расстрелять. Тогда она сама сознательно отравилась и ушла из жизни. Счастливая жизнь в приюте закончилась через полторы недели. В посёлке было много немцев, и им понадобилось помещение, в котором находился приют. Власть приказала детей-сирот распределить по волостям. Я вынуждена была оставить своих родненьких сестричек. Меня с девочкой моего же возраста Люсей Муцилько отправили в деревню Малые Заходы, в 10 километрах от Славковичей. Распрощалась со своими сестричками и тронулась в путь — опять в неизвестность.
Продолжение следует…