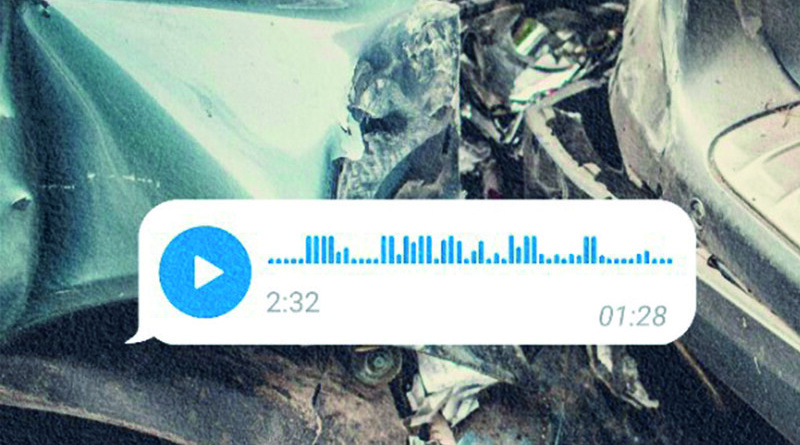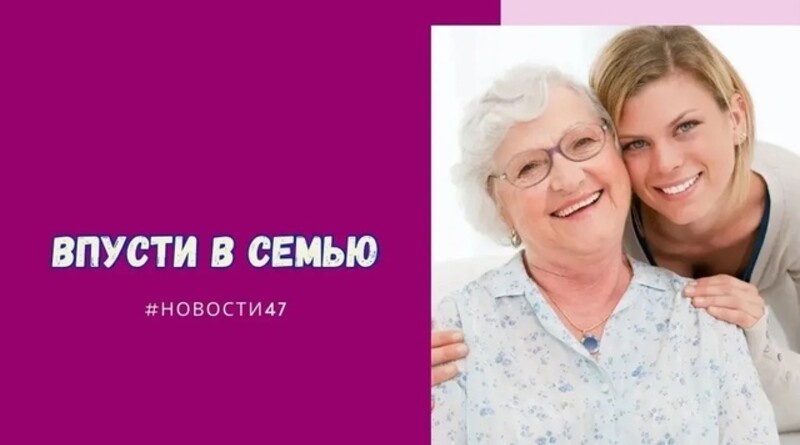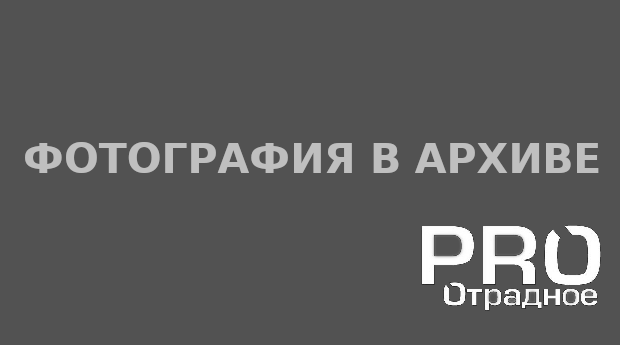
Опалённые огнем Афганистана
Кировская земля потеряла в этом локальном конфликте четырех ребят: Владимира Заводина (12.11.1956 — 24.06.1980, г. Кировск), Владимира Садовникова (21.04.1964 — 18.05.1984, п. Мга), Константина Снарского (06.12.1966 — 31.01.1987, п. Мга) и Виктора Эйнориса (01.04.1967 — 29.03.1986, г. Отрадное). Если верить статистике, то это немного, но жизни — это не цифры. Так только кажется, пока горе не коснется твоей семьи. Для родных каждого из погибших мысли о военном конфликте в Афганистане — незаживающая рана.
Своими воспоминаниями вернувшиеся домой ветераны-«афганцы» делятся не слишком охотно. И это неудивительно: война — суровая действительность, а не красивый героический фильм. Но и в реальной истории есть место долгу и подвигу.
Накануне 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана поговорить о пережитом в Кандагаре согласился Николай Васильевич Михайлов, ветеран войны в Афганистане, почетный гражданин МО «Кировск». В 1980 году, в самый первый, «неустроенный» период кампании, в возрасте 24 лет он вместе с сослуживцами был отправлен в Афганистан и завершил службу в горячей точке спустя полтора года.
— Когда мы вошли в Афганистан, первое, что удивило, — сама страна, — начинает свой рассказ Николай Михайлович. — Например, мы видели, как зимой местный житель идет с магнитофоном Panasonic (которых у нас тогда не было и в помине), однако при этом шагает по снегу босиком. Такие вот противоречия…
Быт не налажен
Перед отправкой в зону локального конфликта советских военнослужащих готовили к исполнению их интернационального долга, правда… на равнинной местности. Войска же транспортировали в Кандагар — в горы и пустыню.
Летом жара достигает там 40 с лишним градусов, зимой — лютый холод. Старожилы говорили, что сто лет в тех краях не было такой злой зимы. Солдаты рыли прямоугольные ямы и накрывали их брезентом, чтобы устроиться на ночлег. Почва горная, каменистая — рыть было тяжело. Для обогрева тоже приходилось проявлять изобретательность — собирать самодельные печки, работавшие на солярке. Их конструкция была очень ненадежной, и приходилось по очереди дежурить всю ночь, чтобы не случился пожар. Только солдаты приспособились к такому суровому быту, как пришлось перестраиваться. Никто не предусмотрел, что в феврале в этой местности начинается сезон дождей.
— Были такие ливни, что все ямы затопило, и вообще нельзя было ничего рыть. Когда разразился первый ливень, все выскочили ночью наружу мокрые, злые. А утром ныряли в эти ямы с водой — кто за пулеметом, кто за личными вещами, — делится воспоминаниями Н.В. Михайлов.
В первые месяцы войны имелись большие трудности со снабжением. О туалетной бумаге и лезвиях для бритья можно было только мечтать. Но самое страшное — отсутствие воды. Перво-наперво стали копать колодцы в расположении рот, но вскоре выяснили, что вода из таких колодцев непригодна для питья и приготовления пищи. Ее смогли приспособить только для поливания палаток — это было необходимо, ведь днем температура доходила до 50-60 градусов в тени.
— В мае 1980-го мне дали отпуск, — вспоминает Николай Васильевич, — и я поехал домой в Кировск. Ладожского моста тогда еще не было, поэтому добирался на 440-м автобусе. Но в излучине Невы, когда открылся вид на водную гладь, не выдержал и вышел на ближайшей остановке. Вы не представляете, как я скучал по воде в той пустыне! А здесь столько воды — и никто это не ценит!.. Хотелось просто напиться этой воды, без меры…
В Афганистане бесценную питьевую воду хранили свято, особенно важно это было во время боевых заданий, когда каждый тащил на себе по 40-60 килограммов амуниции. Нередки были случаи, когда люди погибали просто от теплового удара.
С провиантом в начале войны тоже было скверно — бойцы питались мало и скудно, горные пайки появились позже… Военнослужащие старались выживать, как могли. Например, брали виноградные листья, заворачивали в них свой сухпаек (кашу, тушенку) — получалось что-то вроде голубцов.
За полтора года в Афганистане Николай Васильевич Михайлов притерпелся ко всякому, но по возвращении не перестает шутить (а может и не шутит), что его мечтой было приехать домой и поесть из фарфоровой посуды, перестать ощущать песок на зубах и вечный привкус алюминия.
Забытые болезни
Афганистан по праву стоит в первом ряду горячих точек. Здесь шли ожесточенные бои, армия понесла большие потери… Однако в статистику этих потерь вошли не только погибшие в боях, но и те, кто умер от болезней, которые на тот момент в Советском Союзе были уже забыты: малярии, холеры, брюшного тифа, гепатита. По современным данным, в Афганистане только от гепатита пострадали около 400 тысяч наших солдат. Здоровым оттуда не вернулся практически никто…
— Я подхватил в Афгане желтуху. И это мне еще повезло! Ведь парни болели малярией, холерой, брюшным тифом, — вспоминает Николай Васильевич. — Их оставляли там, в Кандагаре, не везли в Союз, чтобы не было распространения этих заболеваний. Представляете, у парня температура под 40, а он лежит в жаре, его таскают на носилках и ждут — выкарабкается или нет. Потом уже в Афганистан перебросили дополнительные части и с медициной стало получше, а поначалу совсем беда была... Когда начались боевые действия, были и бои в окружении, и большие потери, но для меня самыми тяжелыми так и остались воспоминания о первых месяцах в Афганистане.
О силе и бессилии
В одной из первых крупных операций — Кунарской — наши потери составили 52 человека и 47 раненных. Это огромный урон! Тогда встал вопрос об обучении бойцов. Самими подготовленными всегда были воздушно-десантные войска, но все же и у них не было опыта ведения войны в горах. Уже после, оценив потери, перед отправкой в Афганистан солдат стали готовить по два-три, а потом и по шесть месяцев. Иначе они просто не были готовы ни физически, ни психологически.
— В первые месяцы мы не брали в бой тех, кого считали ненадежным (как на комсомольском собрании). И вот представляете, если товарищи говорили: «Мы не пойдем с тобой в бой», человек на коленях ползал, умолял, чтобы его взяли. Вернется рота, а кто-то погиб… Как же он тогда будет товарищам в глаза смотреть? Это тоже патриотическое воспитание, ведь в семьях еще были живы деды, воевавшие в Великую Отечественную, их подвиги не были забыты. А дедов растили на истории войны 1812 года. Так или иначе, эта преданность Родине предается от поколения к поколению. И подвиги Афганской войны схожи с подвигами Великой Отечественной: защитить командира своим телом, остаться прикрывать отступающих товарищей и т.д.
Однако на войне есть место не только подвигу, но и страху, и колоссальной физической усталости. Попали в окружение... Нужно выносить раненых, а тут 90 килограммов живого веса плюс амуниция. Бывали случаи, когда солдаты бросали сначала оружие, а затем и товарища. И это не малодушие, просто люди «сломались» физически…
В роте, где служил сержант Н.В. Михайлов, хватало ребят, которые до армии активно занимались спортом. Это помогало им переносить тяготы военной жизни, но психологически можно было сломаться в любую минуту… Нашему собеседнику припомнился такой случай:
— У нас был парнишка-молдаванин во взводе. В составе экипажа бронетехники трижды подрывался на минах, еще три раза его подбивали — и ничего, как заговоренный... В конце службы он потерял иконку Николая Чудотворца и стал бояться даже из палатки выходить! Никто из нас его за это не осуждал, наоборот, помогали как могли — приносили в палатку, что было нужно.
О жестокости и милосердии
Люди, прошедшие боевые действия, сильно меняются как внешне, так и внутренне. Но человечность и милосердие остаются с ними даже в этот тяжелый период.
В один из месяцев пребывания Н.В. Михайлова в Афганистане Кандагар затопило из-за дождей, которые нанесли поселенцам большой урон. Солдаты и сами питались кое-как: чуть красный борщ, редкая картошинка плавает в бульоне, чай без сахара… Однако у них была хоть какая-то провизия, местные же жители остались ни с чем. Тогда бригада сообща решила отдать свои пайки местным. Собрали продукты (не забыли даже про сахар) и привезли в кишлак. Но к пайкам никто не подошел, и солдаты в итоге ушли, оставив провиант. Как выяснилось гораздо позже, в то время деревне затаились душманы, поэтому местные и побоялись брать «гуманитарную помощь» от советских солдат. Душманы, конечно, забрали все себе. Вот так для афганцев милосердие чужих обернулось жестокостью своих…
Советский Союз потерял в Афганской войне 15 тысяч солдат, а приблизительные подсчеты потерь среди мирного населения Афганистана составили 1,5 млн человек. Эти страшные цифры не врут. В Первую мировую войну потери среди мирных жителей составили 10%, в Великую Отечественную — 48%, а во всех локальных конфликтах — 90%. В Афганской войне, партизанской по своей сути, погибали преимущественно безоружные.
— Уже после того, как сведения о потерях среди мирных жителей Афганистана стали широко транслироваться по ТВ, мой сын увидел у меня медаль «Воину интернационалисту от благодарного афганского народа» и даже засмеялся… Знаете, ребята, которые ездили в Афганистан уже в мирное время, говорили, что пусть мы и натворили там дел, но русских воинов афганцы уважают в отличие, например, от американских солдат. Хотя, конечно, война — дело грязное… Поначалу афганцы нас с цветами встречали, но когда мы стали наводить свои порядки, то настроили их против себя… Никто никогда в истории не побеждал Афганистан. Да, они не были хорошо вооружены, хотя, надо сказать, что в первых боях у противника были и танки, и БТРы, и артиллерия. Но партизанская война в горах и в пустыне крайне специфична для всех, кто туда суется. Правда, перед нами и не ставили задачу победить Афганистан…
Наше время
— Николай Васильевич, как вы сегодня, спустя годы, смотрите на Афганскую войну?
— Мы действительно защищали свои южные рубежи, выполняли интернациональный долг. У нас не было мыслей «Надо ли? Зачем?». Изначально требовалось встать гарнизоном, защищать собственные объекты и не ввязываться в боевые действия с моджахедами. Но получилось иначе. Сейчас политики хотят пересмотреть историю — решают, правильно или неправильно было вводить войска в Афганистан. Мы на тот момент находились в гуще событий, были солдатами, которые должны были выполнять приказы. В уставе написано: «Приказ должен выполняться беспрекословно и точно в срок». Находясь на передовой, рассуждать было невозможно, особенно в масштабах всего конфликта. Солдаты, воевавшие в Афганистане, не несут ответственности за политические решения лидеров страны.
— Как, по-вашему, видит конфликт в Афганистане молодое поколение?
— Со стороны. И дай Бог так оно и будет! В Афганистане погибли четверо наших ребят из Кировского района. Мы о них не забываем, стараемся увековечить их память. Нужно отдать должное нашему кинематографу, сейчас снимают много документальных и художественных фильмов. До этого что было? Надо было додуматься накануне 15 февраля, даты вывода войск, выпустить в России фильм «Рембо-3», события которого разворачиваются в Афганистане! Разве это дело?! А телевидение ведь очень влияет на молодежь... Сейчас, конечно, сказок тоже много, поэтому нужна правда. Пусть горькая, но правда. Допустим, тот же фильм «Девятая рота» — пусть и собирательные образы, и преувеличили потери, но по крайней мере это действует. Ведь были и ситуации, когда целыми ротами погибали, батальонами! «Афганский излом» — наверное, один из наиболее правдивых фильмов. Посмотрите.
Сейчас и литературы очень много — публикуют воспоминания ветеранов Афганской войны. Но книги, конечно, меньше читают. 80% — это телевидение. Мой внук сейчас знает о танках, вероятно, больше, чем я, потому что смотрит фильмы, учит стихи, участвует в конкурсах на патриотическую тематику. Всё это в комплексе дает потрясающий результат — детям это интересно, они запоминают сложные вещи, учатся.
— Вы много лет занимались патриотическим воспитанием молодежи, наверняка и сейчас вокруг вас собираются люди, которым небезразлична наша общая история…
— Да, я уже говорил, что патриотическое воспитание — это целый комплекс, программа, которая помогает морально. Мы с ребятами ездим увековечивать память погибших, красим памятники, подновляем имена на плитах. Я часто беру с собой внука, чтобы он сам впитывал эту историю и понимал, как важно ее сохранять. Я всю жизнь занимался велосипедным спортом, поэтому весной, летом и осенью езжу с ребятами по местам боев 2-й ударной, 54-й и 8-й армий, Невской оперативной группы. То есть мы объезжаем весь Кировский район, бываем за его пределами. Поехать могут все желающие — мы даже в Интернете предлагаем к нам присоединяться. Ведь, живя здесь, далеко не все знают, какие бои проходили поблизости: в деревне Вороново, Поречье, Погостье, Гайтолово, Гонтовой Липке и т.д. Сейчас я преподаю в Кировском политехническом техникуме ОБЖ, а туда теперь входит и патриотическое воспитание. Так вот, студенты ездят со мной — им, подрастающему поколению, это на пользу.
— К юбилейной дате вывода войск из Афганистана будете встречаться с сослуживцами?
— Безусловно! У нас в районе есть ветераны-«афганцы», но я бы не сказал, что сообщество очень активно. Мы больше общаемся своим кругом. В Шлиссельбурге живет ветеран боевых действий Алексей Новиков, в Отрадном — боевой вертолетчик Александр Андреев. Надо сказать, вертолетчики в Афганистане были особыми людьми. Их ждали как спасителей — огневая поддержка с воздуха была жизненно необходима, особенно в окружении. Сколько жизней было спасено благодаря вертолетчикам! Андреев, кстати, мало того, что воевал в Афганистане, он потом еще участвовал и в ликвидации аварии в Чернобыле.
Наши войска вышли из Афганистана тридцать лет назад, а значит, тем солдатам, что вернулись домой, сейчас уже за 50, а офицерам и того больше — по 60-70 лет. Как ветеранов Великой Отечественной можно сосчитать по пальцам, так теперь и нас, «афганцев», остается все меньше. Мы между собой решили, что всегда будем собираться накануне, 14 февраля. Каждый год мы объезжаем памятные места по маршруту Мга — Кировск — Отрадное. В Кировске будем у памятника «Матери — детям». А большие петербургские мероприятия с высоким начальством я не люблю — это все политика.
Лёля Таратынова