Мы продолжаем публикацию серии статей под общим названием «История пеллинского проекта Императрицы Екатерины II», в которых читателя ожидают многочисленные подробности и частные истории, имевшие отношение к трагической судьбе проекта екатерининской эпохи, который, по единодушному мнению отечественных историков архитектуры, не уступал дворцам римских цезарей, и если бы он был реализован, то «вошел в историю зодчества как одно из крупнейших произведений русского классицизма».
ПЕКАЛИ, ПЕЛИЯ, ПЕКОЛЯ, ПЕЛЛИ
Среди прочих проблем, доставшихся Екатерине II от предыдущих правителей, были, в том числе, и проблемы, связанные с запутанностью земельных отношений в стране. Отсутствие единой государственной системы учёта земельного фонда и неупорядоченность юридических оснований землевладения были тому причиной. Для исправления этой ситуации был разработан комплекс правительственных мер по описанию и картографированию земельного фонда в государстве под общим названием Генеральное межевание. Манифестом от 19 сентября 1765 года было объявлено о начале инициируемого государством и обязательного для всех землевладельцев процесса Генерального размежевания земель Империи. Принимая во внимание размеры страны и сложность самого процесса, эта фактически земельная реформа заняла по времени почти 100 лет (1765-1861 гг.)
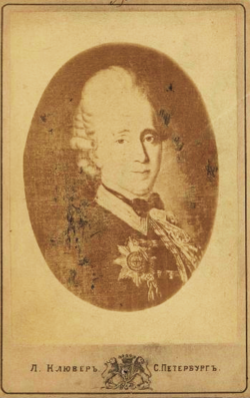
Николай Иванович Неплюев (1731-1784). Репродукция портрета.
Местонахождение: "Государственный исторический музей"
В 1771 году дошла очередь Генерального межевания и до неплюевского «Тосненского места», с названием которого тут же возникла любопытная ситуация. Дело в том, что особенностью проводимой в государстве земельной реформы было наличие обязательного к исполнению требования, согласно которому все земли межевались «не к именам владельцев», поскольку права собственности на землю не проверялись, но «к именам сел и деревень, а пустоши к их собственным названиям».
Из архивных источников известно, что на момент приобретения Неплюевым у вдовы княгини Натальи Федосеевны Долгоруковой в 1761 году «Тосненское ее место в Шлюссельбургском уезде…» в книге Исповедных росписей церкви святого Николая Чудотворца, «что была при тосненских каменоломных заводах в селе Никольском», было прописано как «мыза Пекали» и проживала в той мызе всего одна крестьянская семья, члены которой «крестьянин Степан 69 лет, жена его Анна 49 лет и сын их Семен 12 лет» являлись прихожанами этой церкви. По существовавшему на то время правилу, все православное население Российской империи обязано было раз в год во время одного из постов исповедоваться и причащаться у священника своей приходской церкви. При этом велся строгий учет всех явившихся, о чем делалась соответствующая запись в книге Исповедных росписей этой церкви. В книгу заносились сведения об имени, возрасте, составе семьи, месте проживания, а для крепостных указывалось еще имя их владельца.
Благодаря сохранившимся Исповедным росписям этой церкви за разные годы, становится известно, что эта мыза часто меняла свое название и была записана как Пеля, Пелия, Пелля, Пелли, Пекали, Пеколя, Пенала, а также под другими созвучными с этими именами названиями.

Неплюевское «Тосненское место» - Литера «L» на плане части Невы в1758 г.
Так получалось скорее всего потому, что священнослужители, как в прочем и сами крестьяне, не понимали смысла этого нерусского названия. Поэтому всякий раз сделанная разной рукой запись в книге Исповедных росписей содержала ошибки, приводившие к появлению многообразия названий одного и того же места. Происхождение самого этого названия вероятнее всего имело финские корни. Ведь во времена шведского владычества, когда в результате Столбовского мирного договора 1617 года между Россией и Швецией, Ижорская земля перешла под власть шведской короны, на этой территории произошло замещение русского населения выходцами из восточной Финляндии. Так в Нотеборгском лене (уезде — прим. ред.) к 1695 году доля русского крестьянского населения сократилась до 5,7%, а доля крестьян-переселенцев, в основном финского происхождения, увеличилась до 92,5%.
Как правило, финские переселенцы обустраивались на ранее освоенных территориях, в местах, где находились уже опустевшие русские селения. Одновременно они давали этим селениям свои новые названия, осуществляя таким образом многочисленные замены старинных топонимов и гидронимов на новые, в основном финские. Но, в результате боевых действий во время Северной войны между Россией и Швецией 1700-1721 годов, многочисленные финские поселения оказались разоренными. И снова начался обратный процесс замещения населения. Финские крестьяне постепенно возвращались на свою историческую родину, а им на смену переводились крестьяне из центральных областей России, которые своим селениям давали новые собственные имена. Но чужеродные финские названия, как это происходило в нашем случае, сохранялись в народной памяти, порой даже с ошибками, еще достаточно долго.
МЫЗА «ПЕЛЛА»
При генеральном межевании 1771 года так называемое «Тосненское место» площадью 93 дес. 424 кв.саж. было размежевано землемером штык-юнкером Иваном Вельяшевым на имя наследника Ивана Ивановича Неплюева, его сына Николая, с выдачей последнему надлежащего плана и межевой книги, утвержденных Межевой Экспедицией Правительствующего Сената. При этом название мызы, под которым она была прописана в «надлежащих» документах по желанию ее владельца, Статского Советника Неплюева Николая Ивановича, было записано как более благозвучное и понятное — «Пелла». Таким образом, в 1771 году благодаря Генеральному межеванию «Тосненское место», приобретенное в 1761 году И.И. Неплюевым у княгини Н.Ф. Долгоруковой, получает собственное официальное название «Пелла».

Геометрический Специальный план Шлиссельбургского уезда Мызы Ивановской 1780 г.
РГИА Ф.515 Оп.87 Д.1549 л.1
Но при этом обращает на себя внимание то, что это «Тосненское место» вплоть до 1773 года в книгах Исповедных росписей церкви святого Николая Чудотворца по-прежнему продолжает фигурировать с ошибочными названиями Пенала и Пеналя, а затем, уже в течение трех следующих лет, сведения, касающиеся пеллинской мызы в книгах Исповедных росписей этой церкви, вообще отсутствуют.
Подобное могло быть вполне объяснимо: оставшаяся в одиночестве крестьянская вдова Анна Павлова, живя своими заботами, оказалась просто не в курсе произошедших, никоим образом ее не затронувших, изменений, когда сменился хозяин и поменялось название ее местожительства. А поскольку записи в книге Исповедных росписей делались с ее слов, тем самым стали объяснимы и ошибки в записях названия мызы.
Отсутствие же записей, касающихся пеллинской мызы, в последующие года скорее всего было связано со смертью по естественным причинам на 62-м году жизни крестьянской вдовы Анны Павловой. То есть мыза окончательно опустела и некому стало посещать для исповеди церковь святого Николая Чудотворца.
ПО ИМЕНИ ОТЦА СВОЕГО
Унаследовавший от своего отца «Тосненское место», Николай Иванович Неплюев родился в мае 1731 года в Константинополе, в бытность отца его там резидентом. С раннего детства ему выпало разделить непростую судьбу своего родителя. Лишившись сперва матери, а затем и мачехи, он был определен в кадетский корпус. В 20 лет, следуя воле отца, Николай женился на дочери Санкт-Петербургского обер-коменданта князя Федора Васильевича Мещерского Татьяне. Это в немалой степени нашло свое отражение в стремительности его продвижения по служебной лестнице. В течение года он, вчерашний сержант кадетского корпуса, аттестуется в подпоручики кадетского корпуса, затем по просьбе отца выпускается поручиком армейских полков. Вслед за этим уже в начале следующего 1752 года, будучи пожалован по именному указу капитаном, он с женою и двумя сыновьями Иваном и Николаем отправляется в Оренбург помогать отцу в делах по управлению краем. Там под началом отца он служит шесть лет в должности генерал-адъютанта, приобретая опыт управления как по воинской команде и заграничной экспедиции, так и в сочинении различных представлений по губернским делам в Сенат, Иностранную и Военную коллегии.
Но неожиданно летом 1755 года одно за другим его настигают несчастья. Сперва, заболев, умирает сын Николай, а спустя два с небольшим месяца, и его жена Татьяна Федоровна. В 1758 году отец Николая по состоянию здоровья увольняется от всех дел в Оренбургской губернии, и сын, уже в чине подполковника, вместе со своим родителем отправляется в Петербург.
Здесь, в начале 1760 года, Николай женился на Аграфене Александровне Нарышкиной, внучатой сестре императрицы Елизаветы Петровны, дочери двоюродного брата императора Петра I Александра Львовича Нарышкина и гофмейстерины Высочайшего Двора графини Елены Александровны Апраксиной. Известно, что у Николая с Аграфеной «в 1761 году родилась дочь Елена, потом Федосья и Александра, которые в младенцах скончались; сын же их, Дмитрий, родившийся в 1763 году, остался только один залогом их брака». В том же году Николай, по высочайшей милости, был пожалован вице-президентом в Коммерц-коллегию.
Когда же отец Николая пришел в глубокую старость и по слабости своего здоровья уже, будучи уволенным от всех гражданских и военных дел, поселился в своем новгородском имении, селе Поддубье, сын взял на себя все заботы, по управлению родительскими имениями, в том числе и мызой Пелла. Расположенная в живописном месте и непосредственной близости от столицы, она представляла собой удобное место и для отдыха, и для ведения хозяйственной деятельности. Когда же представился случай, Николай Иванович покупкой соседних дач и смежной с ними пустующей казенной земли кратно (более чем в 17 раз) увеличил ее размеры.
В письме от 04 апреля 1783 г. на имя архиепископа Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила он сообщал: «Приобрел я покупкою в Шлиссельбургской округе немалую дачу с разными угодьями, кои от прежних там владельцев, по небрежению или по недостатку работников, от давних лет нашел запущенными,… перевел я из разных моих вотчин несколько семей и устроил к их жилищу четыре деревни, в коих по нынешней последней ревизии мужеских 110 душ, а для себя дом, при коем дворовых людей обоего полу без мала сто душ, наименовав мызою Ивановскою по имени отца своего».
Подтверждают произошедшие изменения на неплюевской даче и записи в книге Исповедных росписей церкви святого Николая Чудотворца за 1777 год, когда, для очередной ежегодной исповеди, в церковь явились «Его превосходительства тайного советника и сенатора Николая Ивановича Неплюева мызы его Ивановской дворовые люди и домашние», то есть, вместе с переведенцами из разных неплюевских вотчин, в мызу вновь вернулась жизнь, да и сама мыза получила новое название — Ивановская.
Продолжение следует
Юрий Егоров









